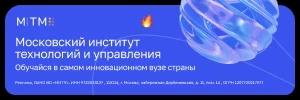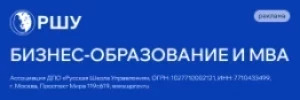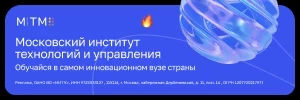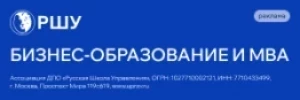Владимир Мау в интервью председателю Студенческого совета РАНХиГС рассказал о главном принципе успешности
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Владимир Мау дал интервью председателю Студенческого совета Кириллу Гайдукову. В интервью ректор рассказал о ярких воспоминаниях из детства, выборе профессии, назначении ректором, ошибках как предпосылках к успеху и о принципе «хорошо учиться и много работать».
О детстве
- Давайте начнем с детства. Обычно человек помнит себя, начиная с трех лет. А вы себя помните в три года?
- Думаю, да. Я бы сказал так, между тремя и четырьмя годами, когда меня впервые повели в детский сад. Свой первый день в детском саду я вполне помню.
- А какое событие больше всего вам запомнилось?
- Вы знаете, вы будете смеяться. Точнее, вы можете не поверить, но это правда. Стою я в Колокольниковом переулке, это на Сретенке, там мы жили, в этом месте был пустырь, сейчас там достроен дом, к тому дому, в котором мы жили, и взрослые говорят о событиях в стране. Я что-то пытаюсь спросить, а мне говорят: «Вместо Никиты Сергеевича Хрущева стал Леонид Ильич Брежнев». То есть я понимаю, что это октябрь 1964 года. Тогда я этого не знал. И будете смеяться, но это я лучше всего помню из своего четырехлетнего возраста…
- В четыре года говорили про политику и экономику. Наверное, вы так и пришли к тому, чтобы заниматься политикой и экономикой в будущем.
- Ну, можно сказать, что за кем утенок побежал, тот и мама, но мне все-таки кажется, что это просто какая-то накладка. А может, правда это было интересно.
- Думаю, вернемся к этому чуть позже. Расскажите, вы учились в обычной школе, или, может быть, лицей, гимназия?
- В нормальной хорошей московской школе, как тогда это называлось, с преподаванием ряда предметов на английском языке.
- А ходили на какие-то секции, может быть, кружки?
- Вы знаете, не особенно. Было много учебы, потом была общественная работа. Я всегда занимался общественной работой в пионерской организации, в комсомоле. Плюс позитивной особенностью нашей школы было то, что в ней находилась музыкальная школа, поэтому я одновременно занимался музыкой. Сразу предупрежу, что слуха у меня нет, и музыкой я занимался просто потому, что было как-то интересно попробовать себя в том, к чему нет склонности, что, мне кажется, важное свойство человека.
- Каким-то спортом занимались?
- Я должен ответить правильно или честно?
- Честно.
- Нет, не занимался.
- А когда-то, может, хотели чем-то начать чем-то заниматься?
- Правильно или честно?
- Честно, конечно.
- Нет, не хотел.
- Ну, и хорошо!
О мечте из детства
- А кем вы мечтали стать в детстве?
- В каком смысле? Стать человеком.
- А профессия?
- Я всегда имел склонность к истории, как ни странно. А может, и не странно. Меня это всегда интересовало. Но по мере взросления, продвижения по классам я как-то все более понимал, что хотел бы заниматься чем-то, что я бы назвал практической историей. Это сейчас мы собираемся в нашей Академии в рамках наших конференций, дискуссий ввести целые сессии по прикладной истории. Тогда этого термина не было, и сейчас он не самый распространенный, но постепенно, в какой-то мере размышляя об истории, я понял, что это должно быть на грани с экономикой, хотя я тогда не знал, что существует предмет экономическая история, история экономической мысли. Это уже чуть позже понял, когда кончал школу. Но, в общем, это было где-то на грани социально-гуманитарных наук. В какой-то мере это то, чем занимается наша Академия сейчас. Я это называю прикладными социально-экономическими и гуманитарными исследованиями. Они социально-экономические, гуманитарные, но имеющие отношение к практике.
- А если говорить про конкретные профессии? Мне кажется, большинство детей хотело стать космонавтами. Кем мечтал стать Владимир Александрович в детстве?
- Наверное, все-таки исследователем. Ученый звучит слишком громко. Но, мне кажется, что если бы я хотел быть космонавтом, то я бы стал космонавтом.
- Мне кажется, было бы интересно тоже на это посмотреть.
- Не знаю. У каждого свои интересы.
- А сейчас не хотите в космос полететь? Есть же всякие программы, которые запускают людей в космос.
- Это зависит от соотношения «цена-качество». В принципе, я не против любого опыта на себе, если соотношение цены и качества приемлемое.
- А какие книги вы читали и можете посоветовать нашим студентам, которые именно из детства?
- Вы знаете, точно не хочу ничего советовать, потому что каждое поколение должно проживать свои книги и читать свои книги. Могу сказать о себе. Это же зависит от возраста, от прохождения. Например, такая детская вроде бы совсем книжка как «Мистер Твистер» Самуила Яковлевича Маршака, я оценил ее, только будучи студентом. Одно дело, когда обычно ее читают в 10 лет, а совсем другое – в 17. А в 25 это вообще очень увлекательно. С возрастом появлялись новые книги. Появился «Альтист Данилов» Владимира Орлова, которого сейчас, наверное, не очень хорошо знают. Появилась совсем малоизвестная книга, которую я многим советовал найти и прочитать, хотя, может быть, она сейчас не так будет интересна, «Бессонница» Александра Крона. Был такой хороший советский писатель, он всю жизнь писал о моряках, вполне советскую литературу, а потом вдруг написал «Бессонницу» (это книга об ученых), и умер. Вот как только вышла «Бессонница» в 1979 году, он умер. На мой взгляд, это одна из очень важных и малоизвестных книг, во всяком случае, для тех, кто хочет связать свою жизнь с исследовательской работой.
- Судя по такому большому списку, вам литература в школе нравилась.
- А какие предметы не нравились?
- Да нет, мне все нравились.
- Прямо все предметы?
- Да.
- А может, были какие-то плохие учителя, или все равно они не портили отношения к таким предметам?
- В самом себе, если хочешь чего-то добиться, надо стараться этим заниматься. Естественно, что-то давалось легче, что-то сложнее.
- А что давалось сложнее?
- Физика. У меня все равно было пять.
- Вы были круглым отличником?
- Не совсем, но близко к тому.
- А с красным дипломом закончили?
- Конечно. По физкультуре у меня была четверка, поэтому я не могу назвать себя круглым отличником.
- Ну, главное, что все в итоге получилось.
О профессии
- Вы заканчивали Московский институт народного хозяйства.
- Да.
- Вы подавали документы только в него или рассматривали другие варианты?
- Чисто поколенческий вопрос, потому что тогда можно было подать документы только в один вуз. Да, только в него.
- Расскажите, как сдавали экзамены при поступлении?
- Приходил и сдавал. А как можно сдавать? Приходишь и сдаешь.
- С трудностями какими-то или наоборот? Может, случались какие-то курьезы или забавные моменты, связанные с этим?
- Во-первых, меня немножко расстроило сочинение, где я в заголовке не закрыл кавычки, и за это получил четверку, что было странновато. А тогда каждый балл имел отношение.
И могу поделиться совершенно тайной историей. Ну, как тайной? Никогда не надо отвечать больше, чем спрашивают. Видимо, будучи молодым человеком, я хотел блеснуть, и на вопрос про страны-члены ЕС я вздумал не просто их перечислить, а говорить, когда какие страны к ЕС присоединились, поскольку я знал. Почему не сказать лишнего? И тут мне сказали, что я там с одной страной перепутал – я точно знал, что не перепутал, а что это экзаменатор перепутал, – и у меня была развилка: спорить или попытаться догадаться, что перепутала она. Я пошел по второму пути, угадал, что перепутала она и получил свою законную пятерку.
- Я думал, вы сейчас скажете, что уличили в попытках списывать.
- Списывать – это пошло. Я против списывания.
- А учиться было вообще легко?
- Учиться легко не бывает, если учиться.
- Говорили о том, что вуз ценится по тому, как трудно в нем учиться.
- Это я так считаю, но обычно все-таки это я говорю в противовес большинству моих ровесников, которые рассказывают абитуриентам и студентам, что студенческая пора самая веселая и приятная. Но самая веселая не противоречит тому, что она должна быть трудной. Да, я считаю, что если вы хотите чего-то добиться, то надо тренироваться по преодолению сложностей.
- Может быть, она должна быть еще и интересной? Трудной, интересной.
- Естественно. Но вы же сами выбираете специальность. Я предполагаю, что если вы выбрали эту специальность, то как необходимое, но недостаточное условие, она должна быть интересной. Но к этому надо добавить, что это должно быть достаточно трудно.
- А если бы была такая возможность исправить немножко ситуацию в жизни, то кем бы вы хотели стать?
- Не космонавтом.
- Какая-то другая профессия цепляет?
- Нет, я скучный, меня устраивает.
- Я уверен, что вы далеко не скучный, даже судя по нашей такой беседе. Чем должны руководствоваться школьники при выборе вуза, кроме того, что он должен быть трудный?
- Я все-таки добавлю. Когда я говорю «трудный», трудность – это же мы сами себе формируем. Если вам кажется легко, то вы просто можете догружать себя. Как штангисты: если этот вес взял, то надо брать другой. И добавлять или нет – зависит от тебя, а не от преподавателя. Человек сам несет ответственность за то, что он делает. Бессмысленно рассказывать, что «нас этому не учили». Не учили? Возьми книжку или залезь в интернет и сам обучись. Мало ли чему тебя не учили. Поэтому мне кажется, что просто надо выбирать то, что интересно.
- То есть вы сторонник самообразования?
- Нет, вы задали вопрос, как выбирать учебное заведение? А я оговорился, что сложность – это сам себе гири довешиваешь. Я бы сказал, что выбирать надо все-таки то, что интересно, а не то, от чего тошнит.
- Но все равно догружать себя какими-то дополнительными знаниями уже касается больше категории самообразования…
- Конечно. А у всех образование является самообразованием. Нет никакого внешнего навязанного образования. Даже если вы слушаете лекцию профессора, вы можете ее воспринять или оттолкнуть. Всякое образование является самообразованием. Всякое образование – это готовность взять эти знания, сформировать свою индивидуальную повестку, а вовсе не воспринимать что-то навязанное извне.
О Егоре Гайдаре
- Давайте поговорим немножко про 1990-е. Кого вы считаете своим главным учителем в жизни?
- Вы знаете, учителей много, и на разных этапах они разные. И потом, все-таки не будем забывать, что учителя – это необязательно те, с кем общаешься, а это еще те, чьи книги ты читаешь или чей опыт изучаешь. Поэтому я бы все-таки исходил из того, что человек живет в контексте истории поколений.
Можно ли говорить, что Иисус Христос – это учитель? Его и в Евангелии называют учитель. Для того, кто всерьез относится к чтению Нового Завета, Евангелия, является он учителем? Да, является.
Да, были люди, которые для меня были важны и как формальные учителя в школе, в институте, в Институте экономики, в котором я поработал. Но тут, опять же, важно наблюдать и воспринимать. Тут важно самому хотеть учиться, а не воспринимать навязанное.
- А есть ли такой человек в жизни, который, возможно, помог при становлении, возможно, вы считаете его главным наставником?
- Таких было много. Вы кого-то конкретно имеете в виду?
- Не обязательно. Возможно, хочется услышать фамилии конкретные, конкретные имена людей.
- Большинство из них вы не знаете.
- Понятно, что в принципе связана с нашей Академией очень сильно личность Егора Гайдара. И мы знаем, что вас связывали с ним дружеские отношения. Можете рассказать историю вашего знакомства с ним?
- Мы довольно поздно познакомились, поскольку я в Московском университете не учился, а университетская команда, конечно, его хорошо знала. Мы познакомились, уже когда он был заведующим экономической редакции «Коммуниста». «Коммунист» в конце 1980-х был одним из самых прогрессивных журналов. И когда мы там взаимодействовали по подготовке некоторых статей, у меня там первая статья была об анализе… «Перестройка как революция». Тогда все пытались избегать слова «революция», да и сейчас его не любят. Мне уже с коллегой, с Ириной Стародубровской уже тогда представлялось, в конце 1980-х, что трансформация, которая начинается, имеет революционный характер, то есть она связана с очень серьезной ломкой существующих институтов. И тогда мы подготовили эту статью «Перестройка как революция». Опять же, для большинства тогда еще «революция» было словом не ругательным, но уже вызывало напряжение, а это был сугубо экономический и социологический – сейчас я бы сказал «социологический» – анализ того, как происходит радикальная трансформация, какие этапы, какие возможные перспективы. Но вокруг этого мы как-то и познакомились.
Егор долго не воспринимал эту трансформацию как революцию, но считал, что очень важно избежать революционных потрясений. Вообще Гайдар всегда повторял, как бы это парадоксально ни звучало, что если можно не реформировать, то лучше не реформировать. Реформы можно проводить, если другого никакого выхода не остается.
Потом он позвал меня в Институт экономической политики, который создавался как структурное подразделение в тот момент Академии народного хозяйства при Совете министров СССР, где я возглавил Лабораторию политической экономии. То есть экономического анализа политических процессов. В этом смысле политической экономии.
И дальше мы работали вместе в Правительстве, потом в институте, который стал самостоятельным, стал называться Институтом экономики переходного перехода, сейчас он опять называется, после безвременной кончины Егора Тимуровича, в соответствии с Указом Президента он стал опять Институтом экономической политики имени Егора Гайдара. Но я к этому времени там уже не работал, я уже был ректором Академии народного хозяйства.
- Можете рассказать, какой он был человек в работе?
- Очень энергичный, очень смелый. На самом деле, реально смелых людей очень мало. Я бы сказал, он был патологически смелый.
Когда я ему как-то первый и последний раз в году 1993-м сказал: «А не опасно ли некое развитие событий?», он говорит: «Не надо бояться. Еще рано» – «А через месяц?» – «А через месяц будет поздно. Поэтому не надо бояться вообще». И это то, с чем я живу.
- А он действительно великий экономист или все-таки больше политик?
- Он точно не политик, он совершенно выдающийся исследователь. Его книги совершенно потрясающие. И просто очень мужественный человек, потому что он взял на себя ответственность за то, что все понимали, что необходимо, все понимали, что это очень репутационно рискованно. И он, понимая, что стране необходим этот набор действий… А в конце 1991 года почему-то никто уже не помнит, что в стране… Россия оказалась без границ, без институтов, и с золотовалютными резервами 30 миллионов долларов. Хочу подчеркнуть, что не миллиардов, а миллионов. Многие почему-то считают, что так мало, поэтому миллиардов. Нет, 30 миллионов долларов, с абсолютно пустыми прилавками магазинов, с переставшей функционировать экономикой. И необходимо было принимать быстрые и решительные действия, чтобы войти в зиму, обойтись без голода, холода… Там просто очень серьезные риски нарастали. Плюс, перед нашими глазами был опыт Югославии, которая распадалась через войну, и этого очень важно было не допустить. Плюс, это было самым важным вызовом, который стоял. Не перед нами, потому что это была ответственность, конечно, Президента и руководства Правительства. Это то, что Россия была в окружении трех ядерных держав. У трех советских республик было ядерное оружие. И важнейшей задачей было вывезти ядреное оружие из сопредельных государств – Украина, Белоруссия, Казахстан, что, на мой взгляд, была самая важная задача, гораздо важнее, чем все экономические, при суперважности экономических. Это более-менее удалось.
- А кто кроме Егора Гайдара вам запомнился по работе в Правительстве?
- Знаете, я просто работал с Гайдаром, но там разные коллеги… Конечно, очень мужественное решение принимал тогда Президент, который решился конвертировать свою популярность в непопулярные реформы. Это очень трудное всегда политическое решение.
- А что было самым трудным в годы, которые называют лихими 1990-ми?
- Все.
- Прямо все?
- Все. Кстати, а почему они лихие?
- Потому что все-таки была такая трудная ситуация у нас в стране, да и в принципе как таковое сложилось…
- Но вы сказали не «трудные», а «лихие».
- Да. Это просто сложившееся устойчивое выражение по отношению к этому промежутку, поэтому лихие 1990-е.
- Меня всегда удивляло это слово. Не понимаю, в чем оно состоит.
- В том, что, возможно, были очень динамично развивающиеся какие-то решения.
- Тогда они динамичные.
- Динамичные 1990-е? Если что, потом в дальнейшем будем уже использовать такое выражение.
- Нет, совершенно не надо. Использовать выражение нужно такое, которое прижилось. Я просто для себя пытаюсь ответить на этот вопрос.
- Как одно из мнений студентов, которые в те годы не жили.
- Которые в тот момент еще не родились?
- Да, да, которых даже в плане не было.
Вопросы от студентов
- Сейчас, Владимир Александрович, мы хотим показать вам небольшие вопросы от студентов, именно касающиеся деятельности РАНХиГС, и потом уже перейдем к основной части.
- Если бы вы не стали ректором нашей Академии, кем бы вы были?
- Занимался бы исследовательской деятельностью, наверное.
- Какой бы фильм вы посоветовали каждому студенту?